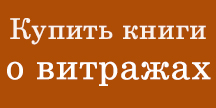В. И. Бородина "К. С. Петров-Водкин в Сумах"
(Фрагмент).

 13 июня 1915 года К. С. Петров-Водкин писал жене из Сум – места своего тогдашнего пребывания: «Неподалёку также усадьба, где жил Чехов, и где он написал своих „Дядю Ваню“, „Трёх сестёр“ и прочее».
13 июня 1915 года К. С. Петров-Водкин писал жене из Сум – места своего тогдашнего пребывания: «Неподалёку также усадьба, где жил Чехов, и где он написал своих „Дядю Ваню“, „Трёх сестёр“ и прочее». Думал ли художник, что спустя полвека и его «географические следы» будут отмечаться на картах и изучаться исследователями? И одной из таких точек окажутся Сумы Харьковской области, где в уютной усадьбе помещиков Линтварёвых на берегу реки Псёл, в селе Лука, примыкающем к Сумам, летом 1888-1889 и в 1894 году жил А. П. Чехов.
Сумские впечатления действительно нашли отражение в позднейшем творчестве писателя, в том числе в пьесах «Три сестры», «Чайка» и «Вишневый сад». Неизвестно, посещал ли Кузьма Сергеевич помещиков Линтварёвых, а в 1915 году ещё жила в усадьбе младшая дочь Линтварёвых – Наталья Михайловна, но о пребывании А. П. Чехова в этих же местах знал. Что привело в эти украинские места близ Полтавы Кузьму Сергеевича? Путешествие его было обусловлено работой по созданию витража «Троица» для Свято-Троицкого собора в г. Сумы. Этот заказ был получен через архитектора А. В. Щусева, руководившего строительством собора. Со Щусевым К. С. Петров-Водкин был знаком с 1910 года, когда участвовал в росписях церкви Василия Златоверхого (12 век), реконструкцией которой занимался А. В. Щусев.
С тех пор Кузьма Сергеевич поддерживал отношения с архитектором и в одном из писем жене от 22 октября 1910 года писал из Овруча: «Заведующий работами по внутренней отделке храма имеет в виду на будущий год расписать ещё одну церковь, и мне кажется, он собирается меня тоже пригласить. Если так, то мы будущую осень проведём с тобой на юге России у австрийской границы. Наконец-то у меня другие дела, чем с кумушками Робертом-Фредериком». Речь в письме идёт именно о соборе в Сумах, строительство которого закончилось только в 1914 году, поэтому мечтам о скором заказе не суждено было сбыться. В письме слышны нотки недовольства Кузьмы Сергеевича Робертом (Романом Фёдоровичем) Мельцером, через которого он пытался получить заказы, но в 1910-е годы всё реже и реже получал их, поэтому был рад заказу и независимости от своего покровителя Мельцера. Попытка пристального ознакомления с материалами, главным образом эпистолярного и мемуарного характера, связанными с жизнью и творчеством К. С. Петрова-Водкина и художников его круга, дала неожиданный результат. Некоторые сведения о работах К. С. Петрова-Водкина в Сумах часто автоматически переписываются из одной книги в другую, но не подкрепляются точными сведениями.
Например, в литературе, посвящённой художнику можно прочесть о его росписях в Троицком соборе в Сумах. В действительности художнику не суждено было воплотить свои замыслы на стенах собора, о чём свидетельствует его переписка с женой и воспоминания современников. Первое упоминание о полученном заказе и начале работы над ним встречается в письмах К. С. Петрова-Водкина жене из Москвы от 5 июня 1913 года: «Со Щусевым две вещи не ладятся, я не могу сейчас получить деньги, т.к. Харитоненко уехал в деревню; вечером отнесу Щусеву работу (…)».
Вероятно, архитектором работа была одобрена, потому что на следующий день Кузьма Сергеевич пишет жене: «Может быть, через неделю мне придёт в Петербург заказное письмо с чеком, сохрани его до моего возвращения». Ещё через неделю уже из усадьбы режиссёра и актёра театра Незлобина Н. Н. Званцева (село Тарталеи Нижегородской губернии), где художник работает над эскизами декораций к спектаклю по трагедии Шиллера «Орлеанская дева» для этого театра, Кузьма Сергеевич спрашивает у жены: «Получила ли ты заказное письмо от Харитоненко на моё имя?».
 Аванс в 500 рублей на изготовление росписей Троицкого собора, по предъявлению Щусеву эскизов, был получен в июле. Что же было заказано К. С. Петрову-Водкину? Из воспоминаний жены художника известно, что «на фронтоне портала этой (…) церкви Кузьма Сергеевич написал четыре небольшие картины, изображавшие „Рождение Христа“, „Крещение“, „Вход в Иерусалим“ и „Вознесение“ (1913 год)». Мария Фёдоровна ошибается дважды: во-первых, вместо «Вознесения» художнику было заказано «Преображение», а во-вторых, до воплощения эскизов «в жизнь» «на фронтоне портала» дело не дошло. Да и каким образом мог художник разместить четыре сюжета на «фронтоне портала»? Харитоненко любил творчество М. В. Нестерова, дружил с художником, Павлу Ивановичу очень нравились росписи Нестерова во Владимирском соборе в Киеве, и весной 1912 года он заказал шесть больших образов для иконостаса Троицкого собора М. В. Нестерову, что тот и сделал. По воспоминаниям С. Н. Дурылина: «В Сумах…Нестеров…отстранил от себя всякую связь с архитектурой храма: не было и речи о том, чтобы он взял на себя роспись стен: он принял на себя лишь образа, далеко не все. Столь ограниченное присутствие Нестерова в соборе было, однако, так ярко внушительно, что не поднималась даже мысль о приглашении кого-либо из других художников для росписи стен: стены остались без росписи и были украшены лишь орнаментами Щусева“. Поэтому дальше эскизов дело с росписями у К. С. Петрова-Водкина не пошло. Но, вероятно, Кузьма Сергеевич какое-то время не подозревал, что вопрос с росписями уже решён не в его пользу, продолжая работу над эскизами. Он пишет из Хвалынска жене в Петербург в сентябре 1914 года:» (…) работаю над эскизами для Щусева, чтобы было, по крайней мере, что показать. Я не трогаю большие акварели, но составляю рисунки более чётко, чтобы оставалось только их скалькировать (…) Остаётся ещё лишь одна картина «Преображение Христа“, которую предполагаю выполнить завтра. Ты понимаешь, что тут у меня уже до Петербурга будет сделана вся черновая работа».
Аванс в 500 рублей на изготовление росписей Троицкого собора, по предъявлению Щусеву эскизов, был получен в июле. Что же было заказано К. С. Петрову-Водкину? Из воспоминаний жены художника известно, что «на фронтоне портала этой (…) церкви Кузьма Сергеевич написал четыре небольшие картины, изображавшие „Рождение Христа“, „Крещение“, „Вход в Иерусалим“ и „Вознесение“ (1913 год)». Мария Фёдоровна ошибается дважды: во-первых, вместо «Вознесения» художнику было заказано «Преображение», а во-вторых, до воплощения эскизов «в жизнь» «на фронтоне портала» дело не дошло. Да и каким образом мог художник разместить четыре сюжета на «фронтоне портала»? Харитоненко любил творчество М. В. Нестерова, дружил с художником, Павлу Ивановичу очень нравились росписи Нестерова во Владимирском соборе в Киеве, и весной 1912 года он заказал шесть больших образов для иконостаса Троицкого собора М. В. Нестерову, что тот и сделал. По воспоминаниям С. Н. Дурылина: «В Сумах…Нестеров…отстранил от себя всякую связь с архитектурой храма: не было и речи о том, чтобы он взял на себя роспись стен: он принял на себя лишь образа, далеко не все. Столь ограниченное присутствие Нестерова в соборе было, однако, так ярко внушительно, что не поднималась даже мысль о приглашении кого-либо из других художников для росписи стен: стены остались без росписи и были украшены лишь орнаментами Щусева“. Поэтому дальше эскизов дело с росписями у К. С. Петрова-Водкина не пошло. Но, вероятно, Кузьма Сергеевич какое-то время не подозревал, что вопрос с росписями уже решён не в его пользу, продолжая работу над эскизами. Он пишет из Хвалынска жене в Петербург в сентябре 1914 года:» (…) работаю над эскизами для Щусева, чтобы было, по крайней мере, что показать. Я не трогаю большие акварели, но составляю рисунки более чётко, чтобы оставалось только их скалькировать (…) Остаётся ещё лишь одна картина «Преображение Христа“, которую предполагаю выполнить завтра. Ты понимаешь, что тут у меня уже до Петербурга будет сделана вся черновая работа».
Местонахождение «больших акварелей» — эскизов росписей, неизвестно. В РГАЛИ и частных собраниях сохранились лишь первоначальные небольшие эскизы-наброски с изображением «Поклонения пастухов», «Поклонения волхвов», (Мария Фёдоровна, вероятно, их в своих воспоминаниях называет «Рождеством»), «Крещения» и «Въезда в Иерусалим». В этих эскизах прослеживается только «нащупывание» композиции и колористического решения будущих росписей. Говорить об авторской интонации, судя по ним, мало оснований.
Летом 1914 года К. С. Петров-Водкин покупает сад в южных окрестностях Хвалынска под строительство дачи. Всю жизнь он пытается свить гнездо, мечтает о доме с садом, где он и его близкие могли бы найти прочное, надёжное пристанище. Он пишет в письме жене 26 июня 1913 года: «Черт возьми, в конце концов, надо же нам устроиться так, чтобы иметь возможность проводить лето в своем углу. Каждый раз, как я в деревне, я мечтаю о собственном уголке. Ты будешь создавать домашний уют, а я спокойно работать под шум деревьев нашего садика».
Можно предположить, что после возвращения из Хвалынска в октябре 1914 года Кузьма Сергеевич от Щусева узнаёт и о смерти заказчика, и о перипетиях с заказом. Известно, что в Италии Павлом Ивановичем Харитоненко был заказан мраморный иконостас для собора по чертежам Щусева, в ниши которого и планировалось вставить образа, написанные М. В. Нестеровым на холстах, но иконостас погиб во время Первой мировой войны, когда его транспортировали на корабле из Италии. Неизвестно местонахождение образов, созданных М. В. Нестеровым для Троицкого собора. О них известно лишь из описаний С. Н. Дурылина. В настоящее время в соборе нет иконостаса, он долгое время служил концертным органным залом и музеем городской скульптуры, в нём на парусах сохранились росписи, выполненные 1913-1914 годах.
 Работы по внутренней отделке собора продолжались и после смерти заказчика благодаря поддержки вдовы – Веры Андреевны и сына вплоть до 1917 года. Стараниями Щусева, радеющего о художнике, Кузьма Сергеевич получает уже от сына П. И. Харитоненко — Ивана Павловича, унаследовавшего после смерти отца (за некоторым исключением) «все движимое и недвижимое имущество», новый заказ – изготовление большого витража «Троица“ всё для того же Троицкого собора в Сумах, который по величию не уступал Исаакиевскому и очень напоминал его.
Работы по внутренней отделке собора продолжались и после смерти заказчика благодаря поддержки вдовы – Веры Андреевны и сына вплоть до 1917 года. Стараниями Щусева, радеющего о художнике, Кузьма Сергеевич получает уже от сына П. И. Харитоненко — Ивана Павловича, унаследовавшего после смерти отца (за некоторым исключением) «все движимое и недвижимое имущество», новый заказ – изготовление большого витража «Троица“ всё для того же Троицкого собора в Сумах, который по величию не уступал Исаакиевскому и очень напоминал его.В начале января 1915 года К. С. Петров-Водкин из Москвы сообщает жене: “ (…) Харитоненко дал мне второй заказ и я заработаю, по меньшей мере, ещё 4 000 рублей (…) 6-ого по приезде я провёл день у Щусева – он просит передать тебе привет (…). Вечером я со Щусевым обедали у Харитоненко (Кузьма Сергеевич имеет в виду вдову И. П. Харитоненко – Веру Андреевну и его сына – В.Б.). Сегодня я опять у них был. Они очень симпатичны, мои работы им нравятся, меня покупают». Вероятно, речь в письме идёт о покупке Харитоненко «больших акварелей» — эскизов росписей, и художник получает окончательный расчёт за проделанную работу. В двадцатых числах января Кузьма Сергеевич отправляется в Сумы осмотреть место для «второго заказа» — витража в Троицком соборе, рядом с которым летом 1914 года земляки похоронили с почестями П. И. Харитоненко, пожертвовавшего на строительство собора полмиллиона рублей.
По возвращении домой в конце января 1915 года Кузьма Сергеевич приступает к эскизам «Троицы». Сохранились отдельные рисунки, акварельные эскизы витража.
Рисунок «Троицы» из собрания А. Л. Тахтаджана свидетельствует о том, что художник изначально работал над традиционной композицией рублёвской «Троицы», хотя положение рук ангелов иное, чем у Рублёва, крылья центрального подняты и расправлены для полёта (в следующих эскизах он будет экспериментировать с ними), что придаёт некоторую динамику образу. Это один из первых эскизов витража, датированный 3 марта 1915 года.
Ещё один рисунок к «Троице» с изображением правого ангела, хранится в частном собрании. В нём уже найдено положение крыльев, рук, которые, судя по дальнейшим эскизам, художник сохранит и в окончательном варианте. Но в последующих вариантах он несколько «усмирит» напряжённую «упругость» позы, придав ей более глубокое содержание одухотворенности, задумчивости.
Акварельный эскиз «Троицы» хранится в Ярославском художественном музее. В нём появляются бытописательские подробности: в левой части второго плана изображение Авраама, справа – крепостных городских стен, а в центре, кроме мамврийского дуба, морской глади. Крылья центрального ангела подняты и их заострённые концы соединены, они придают композиции некоторую пирамидальность, усиливающую лёгкость фигур, их воздушность и в то же время они – эти крылья — играют объединяющую роль переднего и заднего плана – небесного и земного.
 В акварельном эскизе из Ярославля в целом намечен и колористический строй витража, базирующийся на трёх основных цветах ( «трёхцветке): красном, синем и жёлтом. Красному одеянию центрального ангела „вторит“ такого же цвета одеяние правого ангела, одеяние Авраама и подстолья; синему плащу центрального – такого же цвета плащ левого, скатерть стола, синяя поверхность воды и небо, а жёлтому одеянию левого – волосы правого ангела, цвет просматриваемой сквозь листву дуба архитектуры слева, да и плащ правого ангела с примесью жёлтого. Зелёный позём в нижней части композиции „перекликается“ с такого же цвета холмами и кроной мамврийского дуба в верхней части. Таким образом, не только молчаливый „разговор“ рук, движение которых в композиции подхватывают общую „круговую“ тему склонённых друг к другу голов, радиально расходящихся посохов (ангелы не только гости Неба, но и земные путники, только что присевшие), но в эскизе можно проследить и „цветовой хоровод“. Благодаря этой „закольцованности“, светоносности одежд и ликов, выразительности контуров, ритмических повторов линий создаётся напевная поэтика образа.
В акварельном эскизе из Ярославля в целом намечен и колористический строй витража, базирующийся на трёх основных цветах ( «трёхцветке): красном, синем и жёлтом. Красному одеянию центрального ангела „вторит“ такого же цвета одеяние правого ангела, одеяние Авраама и подстолья; синему плащу центрального – такого же цвета плащ левого, скатерть стола, синяя поверхность воды и небо, а жёлтому одеянию левого – волосы правого ангела, цвет просматриваемой сквозь листву дуба архитектуры слева, да и плащ правого ангела с примесью жёлтого. Зелёный позём в нижней части композиции „перекликается“ с такого же цвета холмами и кроной мамврийского дуба в верхней части. Таким образом, не только молчаливый „разговор“ рук, движение которых в композиции подхватывают общую „круговую“ тему склонённых друг к другу голов, радиально расходящихся посохов (ангелы не только гости Неба, но и земные путники, только что присевшие), но в эскизе можно проследить и „цветовой хоровод“. Благодаря этой „закольцованности“, светоносности одежд и ликов, выразительности контуров, ритмических повторов линий создаётся напевная поэтика образа.Последний известный эскиз витража находился
Выразительность контуров приобретает музыкальное звучание, но самое главная „находка“ этого эскиза – блики-“движки», пробела, придающие одеждам кристаллоподобный вид: «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы». Это плоть просветлённая фаворским светом.
Художник использовал древний приём – изысканную форму — пробел краской, то есть бликами и чёткими прямолинейными штрихами от них на выпуклых частях фигур ангелов. В иконах такие пробела иногда выполнялись творёным золотом или золотились на ассист (инокопь), а у Петрова-Водкина они выполнены цветом (надо полагать, более светлым по тону). К сожалению, не удалось увидеть этот эскиз в цвете, возможно, пробела были выполнены, как в древнем новгородском письме, другим тоном, нежели основной тон одеяния (если одежды желтые и красные — пробел на них зеленоватого тона, если одежды синие или зеленые — по ним пробела красноватых или желтоватых тонов и т. д.). Скорее всего, пробела были выполнены в более светлом тоне, чтобы витраж был более прозрачным и воздушным. Судя по тому, что Петров-Водкин пишет о своей работе над витражом, он переносил на стекло живописные приёмы. То есть это было не витраж-панно — мозаика из цветных стёкол, а витраж-картина, то есть живопись на стекле.
 В конце мая 1915 года из Хвалынска Кузьма Сергеевич едет в Сумы воплощать эскиз. В помощники он берёт своего приятеля — московского художника С. М. Колесникова, у которого останавливался временами в Москве. 28 мая 1915 года он пишет жене из Сум: «Вот уже два дня, как я приехал в Сумы. Большое церковное окно будет приготовлено к завтрашнему дню (Можно предположить, что витраж был выполнен на стекле „алтарного“ большого окна – В.Б.). В доме нет никого, кроме меня. Колесников приехал, он славный парень, и с ним приятно будет работать (…) Парк действительно хорош, но это не то, что я люблю, — вылизанный, вычищенный. Для купания (Сумы находятся на берегу речки Псёл – В.Б.) ещё слишком свежо, но город так прекрасно расположен – весь в зелени, и жизнь такая опрятная, богатая, окрестности также красивы, мы там гуляли с Колесниковым, он чудесный спутник. Рисую головы „Троицы“». Акварельный эскиз головы центрального ангела в настоящее время находится в ГРМ. О нём можно сказать стихами З. Миркиной:
В конце мая 1915 года из Хвалынска Кузьма Сергеевич едет в Сумы воплощать эскиз. В помощники он берёт своего приятеля — московского художника С. М. Колесникова, у которого останавливался временами в Москве. 28 мая 1915 года он пишет жене из Сум: «Вот уже два дня, как я приехал в Сумы. Большое церковное окно будет приготовлено к завтрашнему дню (Можно предположить, что витраж был выполнен на стекле „алтарного“ большого окна – В.Б.). В доме нет никого, кроме меня. Колесников приехал, он славный парень, и с ним приятно будет работать (…) Парк действительно хорош, но это не то, что я люблю, — вылизанный, вычищенный. Для купания (Сумы находятся на берегу речки Псёл – В.Б.) ещё слишком свежо, но город так прекрасно расположен – весь в зелени, и жизнь такая опрятная, богатая, окрестности также красивы, мы там гуляли с Колесниковым, он чудесный спутник. Рисую головы „Троицы“». Акварельный эскиз головы центрального ангела в настоящее время находится в ГРМ. О нём можно сказать стихами З. Миркиной: Я знаю это суживанье глаз
И взгляд, направленный к оси незримой —
Не на себя, а внутрь себя. Не мимо
Земных вещей, а сквозь земные вещи, внутрь нас.
В этом образе есть невозмутимость и полнота покоя. Это ТриЕдиный Лик, равный всем трём ликам «Троицы“. И те же основные цвета: синий фон, красное одеяние и желтоватый лик. Ангел здесь не столь миловиден, как в ярославском эскизе, в нём художнику удалось соединить величие с умалением (склонением), Божественное с человеческим, Духа с телесностью. Этот найденный художником лик будет часто повторяться в его последующих работах, особенно в женских образах, поднимая их до образа Богородицы.
Работая над витражом, Кузьма Сергеевич беспокоится об уже строившейся по его проекту даче в купленном в Хвалынске саду. 2 июня 1915 года он спрашивает у жены: “ (…) Как там у нас? Надеюсь, что дом достроен настолько, что возможно в нём жить (…) Теперь о здешней жизни. Вот уже два дня, как я начал работать и ясно вижу, что это работа очень интересная (…) Колесников очень хорош, как помощник, госпожа Харитоненко уже вернулась к себе в деревню около Сум (в Натальевку – В.Б.), скоро она приедет сюда». Чуть позже: «Работа идёт хорошо. Эту неделю, надеюсь, закончить „Троицу“. Завтра уезжает Колесников. Теперь мне остаются только лица, которые ещё не совсем готовы. Мне хочется быть поскорее дома (…)“. 13 июня 1915 год сообщает жене:» (…) работа протекает так равномерно, что нет времени серьёзно сосредоточиться, чтобы углублённо побеседовать (…) завтра годовщина смерти П.Харитоненко, поэтому все посходили с ума и явились нарушить моё одиночество, которое я делю между «Троицей», купаньем, обедом и вечерним чаем в кафе, где мы с Колесниковым ежедневно бываем (…) На мой взгляд, работа идёт очень хорошо, я уже до середины покрыл всё краской, счастье, что рисунок был чётко выполнен. После завтра меня приглашают ехать на автомобиле к Олив на 2-3 дня. Это будет для меня чудесным антрактом, чтобы затем с новым рвением приступить к работе. На днях Оливы ожидают Добужинского, который должен выполнить им один заказ; (…) в июле Сомов тоже приедет в Натальевку (…) Сегодня явились посетители знакомиться с моей работой. Мне кажется, «Троица“ произвела хорошее впечатление (…) Завтра намереваемся поехать на автомобиле на два-три дня в прекрасное историческое имение за 120 вёрст отсюда. Судя по тому, что приходится слышать – у Харитоненко несметные богатства. И подумать только, что он начал жизнь без сапог, пастухом, пася скот в 60-ти верстах отсюда». Тут Кузьма Сергеевич допускает неточность: Павел Иванович Харитоненко не был пастухом, он получил от своего отца – Ивана Герасимовича Харитоненко большое наследство, хотя дед Павла Ивановича был «войсковым обывателем», но в результате своей предприимчивости стал купцом 3-й гильдии.
[…]
 1915 год был переломным в творчестве Кузьмы Сергеевича, он нащупывал свой путь в искусстве, преодолевая влияния символизма, синтезируя колористические открытия Ренессанса и древнерусской живописи. Позже он довольно самокритично напишет о своих монументальных опытах: «Я себя (…) виню за то, что ни одна из этих работ не доведена до выразительности Джотто или Рублёва, а это и доказывает – к стыду моему – что, как я не изучал древнерусскую иконопись, как ни был влюблён в неё, а её законов композиции, верно, так и не понял до конца». Дело было не в непонимании законов композиции, а в том, что изограф творит образ в Духе Святом, он всеми способами стремится умалить свое «я», явить не свою индивидуальность через знание тех же «законов композиции», а обнаружить через образ церковную истину. Историческая религия живёт только на различии между Богом и человеком. А Кузьма Сергеевич, по словам Гайдебурова, «отстаивал право человека быть божественным». Он исповедовал единство человека и Бога. Живой Образ Божий, который иконописцы воплощали в красках в виде иконного образа, не взятого с натуры, он прозревает во Внутреннем Человеке. К. С. Петров-Водкин творчество рассматривал как «борьбу с Господом Богом за обладание истиной, для которой все мы родились, каждый для своей». И чем дальше Кузьма Сергеевич уходил от тем религиозных, тем больше чувствовалась его связь с древнерусским искусством, христианским началом. В этом проявилась та же антиномия, что и в отношении его осёдлости и кочевничества: религиозное в бытовом, бытовое в религиозном, историческое и вневременное, русское и европейское, конкретное и абстрактное — всё в нерасторжимом единстве. Именно эта антиномия и заставляет зрителя видеть архетип «Троицы» в его картине «После боя», а в «Поклонении пастухов» — реальную жанровую сцену.
1915 год был переломным в творчестве Кузьмы Сергеевича, он нащупывал свой путь в искусстве, преодолевая влияния символизма, синтезируя колористические открытия Ренессанса и древнерусской живописи. Позже он довольно самокритично напишет о своих монументальных опытах: «Я себя (…) виню за то, что ни одна из этих работ не доведена до выразительности Джотто или Рублёва, а это и доказывает – к стыду моему – что, как я не изучал древнерусскую иконопись, как ни был влюблён в неё, а её законов композиции, верно, так и не понял до конца». Дело было не в непонимании законов композиции, а в том, что изограф творит образ в Духе Святом, он всеми способами стремится умалить свое «я», явить не свою индивидуальность через знание тех же «законов композиции», а обнаружить через образ церковную истину. Историческая религия живёт только на различии между Богом и человеком. А Кузьма Сергеевич, по словам Гайдебурова, «отстаивал право человека быть божественным». Он исповедовал единство человека и Бога. Живой Образ Божий, который иконописцы воплощали в красках в виде иконного образа, не взятого с натуры, он прозревает во Внутреннем Человеке. К. С. Петров-Водкин творчество рассматривал как «борьбу с Господом Богом за обладание истиной, для которой все мы родились, каждый для своей». И чем дальше Кузьма Сергеевич уходил от тем религиозных, тем больше чувствовалась его связь с древнерусским искусством, христианским началом. В этом проявилась та же антиномия, что и в отношении его осёдлости и кочевничества: религиозное в бытовом, бытовое в религиозном, историческое и вневременное, русское и европейское, конкретное и абстрактное — всё в нерасторжимом единстве. Именно эта антиномия и заставляет зрителя видеть архетип «Троицы» в его картине «После боя», а в «Поклонении пастухов» — реальную жанровую сцену.Так же, как в творчестве А. П. Чехова нашли отражения впечатления от Луки, от усадьбы Линтварёвых и от её милых и добрых хозяев (например, многие литературоведы склонны видеть сестёр Линтварёвых прообразами «Трёх сестёр»), так и на творчество Кузьмы Сергеевича впечатления, полученные в Сумах, несомненно, оказали влияние. Во-первых, сама работа над эскизами «Троицы» была хорошей школой. Во-вторых, знакомство с коллекцией икон Харитоненко – одной из самых лучших в России в начале ХХ века, которую художник мог видеть и в доме Харитоненко на Софийской набережной в Москве, и в Спасской церкви в Натальевке (иконы XV-XVI веков, были собранны из многих мест России, представляя различные школы древних иконописцев). Анри Матисс, которого привёл к Харитоненко Илья Остроухов, увидев в 1911 году его коллекцию икон в его московском доме на Софийской набережной (после национализации в 1920–30-е годы эта коллекция пополнила фонды музеев Москвы и Петербурга), сказал: «Это доподлинно народное искусство. Здесь — первоисточник художественных исканий. Современный художник должен черпать свои вдохновения в этих образцах…». И Кузьма Сергеевич «черпал вдохновение» в пластике фигур, в ритме, в колорите икон. Кристаллоподобные одежды ангелов витража «Троицы», идущие от пробелов древней живописи, позже можно будет видеть в «складчатости» одежд героев его картин, скатертей натюрмортов и пейзажных фонов.
Работа над витражом заканчивалась и, судя даже по акварельным эскизам, мастер добился желаемой гармонии. Наконец, 12 июля Кузьма Сергеевич покидает Сумы, пробыв в них в общей сложности полтора месяца (с 26 мая по 12 июля). Перед отъездом последний «привет“ М. В. Добужинскому: “ (…) уезжая из Сум, целую тебя искренне и сердечно (…) Работу кончил – успешно, так что уезжаю с лёгким сердцем».
Заведующая Хвалынским художественно-мемориальным музеем К. С. Петрова-Водкина В. И. Бородина.
Статья «К. С. Петров-Водкин в Сумах» без сокращений опубликована на сайте «Новости Радищевского музея»
.
Благодарим Веру Ивановну Бородину за любезное разрешение размещения статьи на сайте «Витражи в России».
Благодарим Веру Ивановну Бородину за любезное разрешение размещения статьи на сайте «Витражи в России».